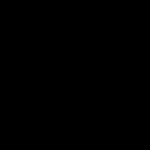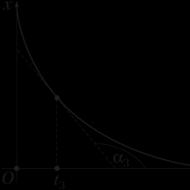
Анатолий Парпара. «Мы будем помнить поимённо…»Три эссе о поэтах-фронтовиках
Анатолий Парпара
Первый перевал
Слово о поэте
На 2-м Московском совещании молодых писателей обсуждалась рукопись стихов московского поэта Анатолия Парпары «Первый перевал».
Творчество этого поэта привлекло наше внимание своей тематической определенностью, немногословием, человеческой сутью.
Анатолий Парпара принадлежит к тому кругу поэтов, кто не спешит с публикацией своих произведений и тем паче с выпуском в свет своих поэтических книг. Он работает медленно, в то же время целеустремленно. У него все ярче, все конкретней вырисовывается своя облюбованная область поэтического: это судьба, становление, формирование характера молодого современника, парня, выросшего в городе, в рабочей среде и черпающего свои темы здесь, среди людей индустриального труда. Он пишет о службе морской и о работе в забое, о любви к Родине и о любви к женщине. Он ищет впечатляющих строк о дружбе и творчестве. Требовательность к себе, формирование высокого поэтического вкуса, поиск новых тем и средств их выразительного воплощения, пристальное внимание к ярким приметам нашей социалистической сегодняшности и подлинная беспощадность ко всякого рода легким успехам - вот та основа, где Анатолий Парпара достигает своих удач и где ждут его грядущие творческие удачи. Он находится на правильном пути. А эту правильность ему предстоит подтверждать каждой воистину выстраданной строкой.
Сергей Смирнов
Первый перевал
Рассвет разбрызгивает краски,
трамвай разбрасывает звень.
И метростроевская каска
на мне надета набекрень.
Я улыбаюсь.
Все на свете
значенья для меня полно:
и эта звень,
и этот ветер,
и то раскрытое окно.
И три часа на сон -
не тяжко!
А не удастся -
и без сна!
И сквозь гражданскую рубашку
тельняшка флотская видна.
И труд заочника -
мне в радость.
И труд шахтера -
по плечу.
И если «надо» -
значит «надо»,
и можно пренебречь «хочу».
Но я не запираюсь дома,
когда в стекло мое в ночи
морзянку -
это мне знакомо! -
девичий пальчик отстучит.
Веселый парень!
Все дается
так удивительно легко.
И дни журчат,
как будто льется
березовое молоко.
Проходчики
Доверчивый и открытый,
опять возвращается взгляд
туда, где, как глыбы гранита,
проходчики молча стоят.
Казалось бы, что здесь такого!
На улицах синей Москвы
в преддверии часа ночного
их часто встречали и вы.
Я знаю,
что в век этот громкий
стремящимся всюду поспеть
нет повода для остановки
и времени,
чтоб посмотреть.
И все же прошу,
посмотрите:
под сенью ночных колоннад,
как вырубленные из гранита
проходчики молча стоят.
Их видом я мог восхититься,
но аханье сердцу претит.
Мне нравится то,
что их лица
пытливая мысль бороздит.
О чем эта мысль:
о заданье?
О метрах ночного пути?
А, может, она в мирозданье
быстрее ракеты летит.
Не знаю…
Но их наблюдая,
и, как бы причастный к судьбе,
тревожиться я начинаю
о времени и о себе.
Все в жизни обыденней, проще.
Прошел перекур.
И они
ушли под вокзальную площадь,
и вслед замигали огни.
И станет в работе им легче,
и четче проходка пойдет,
и тюбинг ребристые плечи
подставит под тяжесть пород…
Но силою воображенья
опять возвращается взгляд
в то редкостное мгновенье,
когда они молча стоят.
Баллада о гуде
Я помню восторг тот мальчиший
и радость смоленской земли,
когда из-за сломанных вишен
«Т-34» вошли.
Задолго до их появленья,
врагов повергая в дрожь,
гуденье,
гуденье,
гуденье
над лесом,
над полем неслось.
Но если изменников подлых
карающий гуд убивал,
то он же расстрелянных в поле
в бессмертие поднимал.
И в памяти -
книге закрытой -
мне с красной строки этот гуд…
Я слышу - идут с кимберлитом,
«БелАЗы» неспешно идут.
И в мерном гигантов гуденье
суровая та красота,
и то же во мне восхищенье,
и радость высокая та.
С карьера - до цеха -
по кругу
машины упруго идут.
И нет мелодичней для слуха,
чем этот рабочий их гуд.
Так пусть чередою «БелАЗы»
плывут в бесконечности дней,
и будут в России алмазы
для счастья Отчизны моей.
И вот почему -
в завершенье!
и утром,
и днем,
и в ночи
гуденье,
гуденье,
гуденье
мне музыкой нежной звучит.
Мое поколение
Мы живем,
не боги,
не атланты,
под крылом отцовским
не согреты,
в двадцать лет -
матросы и солдаты,
в двадцать пять -
вечерники-студенты.
Нас растили няньки:
бабья жалость
да за будущее
вдовий страх.
Отсветы июньского пожара
полыхают
до сих пор в глазах.
Выросшие в годы голодовок
на макухе
и на лебеде,
не стремимся
жить на всем готовом,
не привыкли
кланяться беде.
В нас жива,
до времени глубоко,
памятью и деда и отца,
революционная жестокость
к разного калибра подлецам.
Не забыты!
Бытом не забиты!
Это мы,
сыны своей земли,
на околоземные орбиты
умные выводим корабли.
Ничего о прошлом не забыли.
Но делами в будущем живем.
Никогда
в труде не подводили,
никогда
в бою не подведем.
Будьте же спокойны,
комиссары!
Ваше сердце -
в молодой груди.
Родину свою
в знаменах алых
сыновьям своим передадим.
«Мы будем помнить поимённо…»
(Три эссе о поэтах-фронтовиках)
Историю часто переписывают, желая извлечь определенную выгоду. К сожалению, и события Великой Отечественной войны пытаются подменить неправдой, как в Европе, так и у нас, бессовестные, лукавые люди.
К счастью для нас и наших потомков, есть незабываемые свидетельства подвигов на войне, запечатленные в прозе Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Леонида Леонова, Юрия Бондарева, Михаила Алексеева, Виктора Астафьева, Евгения Носова и других подвижников русской прозы.
Но есть и такое незабываемое по таланту и честности явление, как фронтовая поэзия. Муза нашёптывала под грохот пушек и на полях сражений жемчужные строки, но записывались они в блокноты «не в боях – между боями».
Читаю и перечитываю стихи фронтовых поэтов, и сердце заходится в мучительной тревоге. Оттого, что трудно, горестно, невозможно читать эту суровую правду о войне. Оттого, что и я сам – дитя невероятных лет, переживший двухлетнюю оккупацию на Смоленщине, расстрел карателями смоленской деревни Тыновка в феврале 1942 года. Оттого, что за скупыми, резкими и горькими строками фронтовых поэтов стоит незабываемая четырёхлетняя трагедия битвы за само существование нашего многострадального народа. Фронтовая поэзия – это мужество на войне, обострённое чувство справедливости и великая жажда жить во имя созидания.
Я много лет собирал стихи поэтов, павших на войне, интересовался дальнейшей судьбой поэтов, вернувшихся с фронта. Многих из них знал лично. И мои размышления оформились в рукопись книги, которую я назвал «100 фронтовых поэтов».
Итак, дорогие читатели, вспомним о поэзии, которая поднимала в бой, рождалась вновь после боя и вдохновляла на восстановление мирной жизни. Вспомним о фронтовиках, которые были истинными поэтами и, к сожалению, незаслуженно забыты.
«…Хочешь жить – умри, не отступая!»
Отвечая на моё письмо, в котором я просил известного поэта рассказать о своём друге, Александр Петрович Межиров прислал мне (15.01.1970), молодому руководителю литобъединения имени А. Недогонова, полторы странички о поэте, вернувшемся с войны: «Все мы писали тогда грубым стихом, вдалеке от мастерства, но Недогонов был природный мастер. Его стих, необыкновенно изящный, изысканный, воплощённая пластика, звучал необычно, являя пример врождённой поэтической культуры. И сам Алексей был похож на свои стихи: стройный, худощавый, с тонкими чертами лица. Глаза живые, добрые, слегка лукавые, таящие в себе опыт, «неутешительное знание», едва уловимую усталость. Ему была свойственна элегантность во всём, в уменье носить небогатое платье и красиво держать в руке бокал с вином».
Алексей Иванович Недогонов (1.11.1914 – 13.03.1948, уроженец г. Шахты Ростовской области, трудился шахтёром, работал в Москве на заводе в Филях (ныне знаменитый государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева), занимался в литобъединении при Дворце культуры им. Горбунова. Теперь оно носит его имя. В 1935 г. поступил учиться в Литературный институт им. М. Горького. В 1939-40 гг. участвовал рядовым в советско-финляндской войне. Там, в суомской снежной пустыне, у двадцатипятилетнего поэта окреп и возмужал стиль его героико-философских баллад, обновивший этот поэтический жанр, в котором учительствовали Николай Гумилёв и Николай Тихонов: «Выноси, мужайся и терпи, // нелегка судьбина фронтовая! // Хочешь спать – ложись в сугроб и спи, // опалённых век не закрывая! Хочешь встать – лежи на сквозняке! // и следи: тревожна мгла слепая! // Хочешь пить – мечтай о роднике! // хочешь жить – умри, не отступая!» Там же он был впервые ранен.
Именно на полях сражений Великой Отечественной войны в краткие перерывы между боями он создал шедевры фронтовой поэзии, в которой любовь к жизни возобладала над торжеством смерти, а суровая нежность лирика соседствовала с мужеством воина. Таковы «Испытание», «Баллада о смерти», «Гнездо», «Дорога на Днепр», «Тайна», «Баллада о позывных», «Башмаки», «Баллада о железе»...
Алексей Иванович, поэт яркого дарования, боевой офицер, успел написать ещё поэму «Флаг над сельсоветом», которая была удостоена Сталинской премии первой степени и сделала его имя знаменитым. Но об этой награде тридцатитрёхлетний поэт не узнал: за три дня до публикации Указа, садясь в утренний трамвай, он попал между вагонами… На Ваганьковском кладбище Москвы на памятнике выбиты его вещие строки из «Эпитафии» (1935): «Мы должны учиться у растений, // погибая, снова расцветать!»
Он ушёл из жизни молодым, ненадолго пережив своего кумира Лермонтова, предсказав свою творческую судьбу в письме к другу А. Лильеру (Логвину): «В середине нашего железного столетия вспыхнет (но вовеки не потухнет) звезда». А в другом стихотворении – дату гибели: «Я умру тринадцатого марта». Как и Михаил Юрьевич Лермонтов, (на которого он, кстати, был похож: друзья его в шутку звали Лермонтович), Недогонов был полон творческих планов… Но и то, что он успел создать, вошло в золотой фонд русской поэзии.
Не удержусь, чтобы не опубликовать одно из лучших стихотворений поэта, прожившего всего тридцать три года. Кстати, заголовок этой публикации – строка Алексея Ивановича.
ВЕСНА НА СТАРОЙ ГРАНИЦЕ
Александру Лильеру
В лицо солдату дул низовый,
взор промывала темнота,
и горизонт на бирюзовый
и розовый менял цвета.
Передрассветный час атаки.
Почти у самого плеча
звезда мигала, как во мраке
недогоревшая свеча.
И в сумраке, не огибая
готовой зареветь земли,
метели клином вышибая,
на Каму плыли журавли.
Сейчас рассвет на Каме перист,
лучист и чист реки исток,
в его низовьях – щучий нерест,
в лесах – тетеревиный ток.
Солдат изведал пулевые,
весёлым сердцем рисковал,
тоски не знал, а тут впервые,
как девочка, затосковал.
Ему б вослед за журавлями –
но только так, чтобы успеть,
шумя упругими крылами,
к началу боя прилететь…
Возникнуть тут, чтоб отделенье
и не могло подозревать,
что до начала наступленья
солдат сумел одно мгновенье
на милой Каме побывать.
Вдруг – словно лезвие кинжала
вдоль задремавшего ствола
мышь полевая пробежала,
потом рукав переползла.
Потом… свистка оповещенье.
Потом ударил с двух сторон
уральский бог землетрясенья, –
стальных кровей дивизион!
Взглянул солдат вокруг окопа:
в траве земля, в дыму трава.
Пред гребнем бруствера – Европа,
за гранью траверса – Москва!
1944 г.
«ОНА НАЧАЛАСЬ ПОД СМОЛЕНСКОМ…»
Так в первый месяц нашествия гитлеровских войск тридцатилетний корреспондент армейской газеты, будущий известный поэт и общественный деятель писал о судьбе своего полка, сформированного в Ростове на Дону, но оказалось, что этой строкой обозначилась и его фронтовая судьба.
Наряду с песнями Михаила Исаковского, Алексея Фатьянова и других талантливых поэтов, песни Анатолия Владимировича Софронова входили в каждый дом, сопровождали людей и в радости, и в печали. До сих пор они, несмотря на торжествующую попсу, звучат в эфире радиостанций, передаются по телевидению, известны в городах и деревнях.
Я напомню названия наиболее популярных песен на стихи Софронова: «Шумел сурово Брянский лес», «Как у дуба старого», «Цветут сады зелёные», «Ростов-город», «Краснотал», «Ах, эта красная рябина», «Дай руку, товарищ далёкий», «Шёл казак на побывку домой...», «Под клёнами зелёными»… Возможно, что многие читатели, за исключением, быть может, совсем молодых, вспомнят эти, небезразличные душе и сердцу маленькие шедевры. Моя ранняя юность была овеяна дивной: «Расцвела сирень-черёмуха в саду / На моё несчастье, на мою беду». И только лет в тридцать я узнал, что стихи этой печально-нежной песни принадлежат перу Софронова.
Анатолием Владимировичем написано за долгую творческую жизнь 25 пьес. Такие из них, как «Карьера Бекетова», «Сердце не прощает», «Стряпуха», «Миллион за улыбку», «Стряпуха замужем», «Старым казачьим способом», «Ураган», «Операция на сердце» ставились на сценах многих театров по всей стране и принесли ему широкую известность. Он создал восемь киносценариев. Кинокомедия «Стряпуха», в которой главную роль сыграла обаятельная Светлана Светличная, особо нравилась советскому зрителю. Поэт – автор более двадцати стихотворных книг, половину из которых посвятил родному Дону… Прозаик и критик, он также выпустил в свет несколько книг рассказов, очерков и статей.
Я думаю, что читателям не лишне будет узнать, как фронтовая судьба Анатолия Владимировича пересеклась с судьбой земли Смоленской и… с моей.
В своём очерке «Начало» Софронов вспоминает летний день 16-го июля 1941 года, когда немецкие танки ворвались в Смоленск и загрохотали по замершим от ужаса улицам. Пером очевидца и летописца он передаёт реакцию мирного населения на это агрессивное вторжение в их размеренный быт: «Ребятишки с испуганными глазами, вздрагивающие от каждого орудийного выстрела, от рёва пикирующих немецких бомбардировщиков. Женщины с бессонными, красными, зарёванными глазами. В глазах был упрёк и недоумение: что же это? Как случилось, что вот здесь, на высотах Смоленска, на его грозных холмах, происходило что-то страшное, такое, чего, казалось, уже остановить было невозможно. Колонны отступающих войск шли к Днепру, переправлялись на левый берег…».
А за двое суток до этого ростовский поэт, тридцатилетний сотрудник армейской газеты «К победе» 19-й армии под командованием генерала (будущего маршала СССР) Ивана Конева, вместе с воинским эшелоном прибыл для защиты Смоленска. Он был свидетелем того, как немецкие самолёты бомбили районный центр Смоленской области Рудню и буквально смели его с лица земли.
Утренний налёт фашистских стервятников стал для молодого журналиста страшным небесным крещением на войне, а нижеследующие строки – началом стихотворения, написанного бессонной ночью потрясенным этой варварской бомбардировкой политруком Анатолием Софроновым. Оно положило начало фронтовым стихам, рождённым на огненной ниве.
День был и страшным, и трудным,
В зное, в пыли деревенской –
За день сгоревшая Рудня –
Семьдесят вёрст от Смоленска.
С этого дня писатель всё больше погружался во фронтовую жизнь «со всеми драматическими, трагическими подробностями, с горечью отступления, с небольшими радостями первых побед, с сожалением о том, что эти победы (и первая из них под Ельней) одержаны пока не на нашем участке фронта». И всё это откладывалось в глубинную память и надёжно запоминалось, ибо «сама война с каждым днём при всей её тяжести становилась бытом, привычкой, и каждый из нас всё увереннее находил своё место в ней, только горестно отдаваясь печали при прощаниях с погибшими товарищами».
Эвелина Сергеевна Софронова, спутница и муза поэта, благородная женщина, труженица, много лет работающая над архивом поэта, отвечая на мой вопрос о том, сколько раз он был ранен, уточнила: «Действительно, писали в газетах, что трижды был ранен. Но на самом деле единожды. А писали, видимо, потому что, когда редакция «К победе» была разгромлена авианалётом и погибли Фридов, Эдельман, другие сотрудники её, то подумали, что в их числе и Анатолий Владимирович. Но, к счастью, он с гранками очередного номера был в этот момент в типографии».
Смерть явно охотилась за ним, ибо через две недели крестатый бомбардировщик выследил машину, в которой Софронов возвращался с задания…
Очнулся он от свирепой боли в руке, рядом разбитый грузовик, развороченная земля… Контуженный в голову, он понял по тому, как под ним трясется земля от военной техники, идущей по дороге, что ничего не слышит. Тяжело раненому повезло необычайно: он вдруг почувствовал, как над ним наклоняется чьё-то лицо и мужской грубый голос кричит: «Парень, ты живой?» И, видимо, заметив руку, висящую на сухожильях, спрашивает: «Кто ты по специальности? Писатель… Ребята, надо спасать руку писателю. Срочно грузите на машину, которая идёт в Москву».
Эвелина Сергеевна, рассказывая о трагедии, переживала произошедшее с Анатолием Владимировичем семьдесят лет назад так, как будто это было вчера: «Всё-таки это Божий промысел! Я удивляюсь, как санитарная машина столько сот километров в невероятных условиях проехала по разбитым дорогам и всё-таки дошла до столицы, до госпиталя и не погибла, не взорвалась, не сломалась. Чудо какое-то!».
«Да, чудо, - подтвердил я. – И не случайное!»
Как не случайно и то, что встреча моя с Анатолием Владимировичем была так же предопределена, как ни странно, судьбой Смоленщины. Его ранение в 1941 году на смоленской земле. Моё, полуторагодовалого мальчика, ранение при расстреле деревни Тыновки Знаменского района карателями в феврале 1942 года. В 1943 году он, после полугодового лечения, снова на фронте в качестве корреспондента «Известий» проходит по многострадальной Смоленщине, но уже на запад. В один из вечеров, в полуразрушенной избе, гладя «грубой рукою» льняную головку маленькой девочки, которая радостно сосёт кусочек сахара, данный щедрым дядей, он сочиняет стихотворение «Мы ласкаем чужих детей», которое заканчивается такими волнующими сердце строками:
Может, где-то в моём краю
Бородатый, небритый дядя
Дочку ласковую мою
Так же нежно и бережно гладит.
И она ему в этот час
Говорит и глядит на медали:
«Где мой папа воюет сейчас?
Вы на фронте его не видали?»
Это стихотворение он посвятил своей дочке Виктории, будущему филологу, критику, умному и справедливому редактору, с которой я проработал двадцать лет в журнале «Москва» в 70-80-е годы прошлого столетия.
Нет, нет! Нас не познакомила Виктория Анатольевна. Об этом стихотворении я узнал только год назад. Всё было иначе. Наше знакомство с поэтом произошло ровно сорок лет назад.
В Москве, в концертном зале имени П. Чайковского, тогда проводились литературные вечера, собиравшие полный зал поклонников поэзии. На этих вечерах была удивительная атмосфера духовной близости выступающих и слушателей. Каждое оригинальное стихотворение, интересный образ или неожиданный поворот мысли вызывали восторженную реакцию зала. Поэты рвались на эстраду, ибо была возможность проявить себя, но зато неприятие зала могло надолго отбить охоту к публичному выступлению.
Однажды и мне, мало кому известному тогда сочинителю, не так давно закончившему заочно факультет журналистики МГУ, предложили принять участие в одном из таких вечеров. Помню, что я очень волновался, но всё же твёрдым голосом прочитал два лирических стихотворения. А завершил своё выступление «Балладой о суровой нежности», посвященной замечательному рабочему поэту Александру Балину, чей фронтовой путь проходил по нашей Смоленщине. Это был стихотворный рассказ о судьбе мальчика в оккупации, который разлучён с отцом жестокой войной с годовалого возраста. И хотя я не помнил своего отца, но знал от матери, что тот бьётся с фашистами, чтобы освободить своего сына из неволи. Поэтому, когда в том же освободительном 1943-м году проходили мимо деревни наши роты, мальчик выбегал навстречу солдатам и спрашивал их: «Ты – папа мой?»
…У каждого такой же сын иль брат.
Но пальцы их впивались в автомат…
Я детство мог забыть, как сон, как небыль,
Но через годы на меня глядят
Глаза солдат, печальные, как небо,
И небо, как глаза солдат.
И страшно мне в глазах увидеть синих
Живую мысль, забитую войной,
И слышать голос маленького сына:
«Где папа мой? Где папа мой…»
Эта горькая история оказалась близкой слушателям, и потому стихи были отмечены бурными аплодисментами. Но более всего меня поразил вопрос и последующая реакция ведущего наш вечер известного поэта, фронтовика, главного редактора популярнейшего тогда журнала «Огонек» Анатолия Владимировича Софронова:
– Анатолий, эту балладу ты публиковал где-нибудь?
Услышав мой отрицательный ответ, он отчеканил, обращаясь к залу:
– Читайте стихи Анатолия Парпары через три недели в журнале «Огонек»!
А меня попросил, чтобы завтра я принес ему подборку своих стихотворений. И непременно «Балладу о суровой нежности».
На следующий день, с трудом проникнув в охраняемое здание издательства «Правда», я пришёл к заведующему отделом поэзии журнала Анатолию Кудрейке со своими стихами. Но старый поэт, прославленный ироническими стихами Маяковского в его адрес, вместо того, чтобы прочитать мои сочинения, долго и нудно говорил мне о том, как много присылают стихотворений в журнал, как много расплодилось виршетворцев, что им нужны стихи о комсомоле, о современном поколении. Просил не спешить и дать это к осени.
Мне стало жалко его, и я ушел из редакции, так и не отдав стихи.
Месяца через три в фойе Центрального доме литераторов я сидел на диване с приятелем и увидел стремительно идущего А. В. Софронова в окружении нескольких человек. Вдруг он, заметив меня, прервал движение:
– Анатолий, почему ты не пришёл ко мне в редакцию?
Я стал оправдываться тем, что постеснялся беспокоить его и потому зашёл в отдел поэзии…
– Чтобы завтра в 12 часов дня был в моем кабинете. Пропуск будет заказан.
В бюро пропусков действительно всё было оформлено и, спустя несколько минут я входил в приёмную главного редактора «Огонька», где сидело на стульях и стояло человек двадцать известных литераторов. Я предупредил симпатичную секретаршу о своём приходе и приготовился терпеливо ждать конца очереди.
Минут через пятнадцать она, заглянувшая по вызову в кабинет главного, объявила: «Анатолий, вас ждут». Вскочило несколько Анатолиев. Я узнал среди них прозаиков Анатолия Ткаченко и Анатолия Иванова, но секретарша уверенно отчеканила: «Главный редактор зовёт Анатолия Парпару». В кабинете вокруг огромного стола стояло человек десять сотворцов «Огонька». На столе лежали полосы журнала. Софронов держал одну из них в руке и говорил известному фотокорреспонденту Бальтерманцу, пальцем указывая на фотографию: «Здесь десять членов Политбюро. А где одиннадцатый? Срочно вклеить».
Я тогда ещё не был ни разу на журнальной кухне и мало что понимал в проблемах издания журналов, тем более единственного на всю страну общественно-политического и литературно-художественного. Я знал, что выходит он многомиллионным тиражом и разлетается не только по всему Советскому Союзу. Понимая, что сотрудникам издания не до меня, сел на стул, благо стульев было много, и приготовился ждать.
Минут через пятнадцать Анатолий Владимирович поднял на меня взгляд и мягко сказал: «Стихи принёс? Давай свой конверт. Можешь идти».
Через десять дней мой телефон накалился от телефонных поздравлений: опубликовать, пусть и небольшой, но цикл стихотворений в «Огоньке» означало тогда стать известным в стране, которая любила своих писателей.
Когда мои друзья и знакомые расспрашивали, как мне удалось напечататься в таком журнале, где современные классики печатаются не каждый год, я честно рассказывал, как было. И никто мне, кроме близких, не верил, что такое возможно. И я их понимал. Пригласить в журнал, пообещать напечатать могли многие редакторы. Но, чтобы через четыре месяца вспомнить о начинающем сочинителе, который не приходит, не звонит, не надоедает?.. Да и как вспомнить занятому до предела общественными, международными, писательскими делами главному редактору «Огонька»… Я и сам несколько десятилетий не понимал, как это произошло. Не понимал побудительных мотивов. А они были.
Слишком многое совпало в наших судьбах, и виновата в этом была земля древних кривичей, опалённая невиданной войной. Мы прошли через один ад в одно время: он, сложившийся к тому времени, сильный телом, твёрдый духом мужчина, поэт и офицер, и я, обездоленный, умирающий от голода и обстрелов с двух враждебных друг другу сторон и одинаково опасных для мальчугана, будущий поэт и офицер. Я догадываюсь, что Софронова, написавшего стихотворение «История полка»: «Она началась под Смоленском, / Там первая вышла глава – / Когда на лугах деревенских / Шуршала в пожаре трава», конечно, не могли не тронуть начальные строки моей баллады: «На запад уходил стрелковый полк. / А рядом с ним, таким суровым, / Бежал мальчишка белобровый, /Немногим выше кирзовых сапог». Слишком многое совпало, сблизилось тогда, в тот поэтический вечер: его строки о дочери и мои стихи о своём детстве: его фронтовая молодость и молодость поэта, стоящего на сцене. Ведь мне было тогда столько же лет, сколько было Софронову под Смоленском.
Прав был Александр Пушкин: «Бывают странные сближенья». Бывают. И пусть вас, дорогой читатель, не смущает эпитет «странный», ибо из девяти значений этого слова (смотри древнерусский словарь И. И. Срезневского!) есть несколько подходящих к нашему состоянию: удивительный, необыкновенный, непостижимый. Выбирайте любое из них. Мне милее непостижимые сближенья. Но, оказывается, с годами их можно постичь, как постигнул их я.
Но на этом история с балладой не закончилась. Однажды мне позвонил консультант отдела поэзии журнала «Огонёк» поэт Александр Говоров, который служил за год до меня в киевской военно-морской школе, готовившей специалистов для радиоразведки. (Кстати, ещё о сближениях: в этой же разведшколе учился задолго до нас и Василий Макарович Шукшин, от которого у Виктории Софроновой родилась замечательная дочь Катенька).
Оказывается, что уже около года в отделе лежит письмо на моё имя. Питерский музыкант Марк Бек, руководитель трио знаменитого композитора Соловьёва-Седого сообщал мне, что на стихи «Баллада о суровой нежности» написана музыка и просил откликнуться. Разговаривая по телефону с ним, я узнал удивительную историю о том, как эти стихи вернули к жизни отчаявшуюся женщину и дали ей энергетический заряд на долгие годы. Дело в том, что у Галины Сорочан, пианистки, работавшей в ленинградской филармонии, был убит восемнадцатилетний сын. Известие об этой трагедии настигло её на гастролях в Свердловске и выбило из привычной колеи напрочь. Марк Бек, друг Галины, чтобы как-то вернуть ей душевное равновесие, дал прочитать журнал «Огонёк», лежавший в его гостиничном номере. Именно в нём он прочитал «Балладу о суровой нежности» и порекомендовал внимательно прочитать.
И свершилось невиданное: драма мальчика на войне и весть о потери её сына вызвали в душе матери творческие силы. Талант проявляется в человеке не только от великой любви, но и от великой скорби. Галина, которая и не мечтала о композиторстве, написала музыку на мои стихи. Утром она проиграла свою первую в жизни песню Марку. Так родилась композитор Галина Сорочан, написавшая немало замечательных мелодий и музыкальных пьес. Кстати, «Балладу» исполняли великолепные певцы Виталий Коротаев и Эдуард Хиль.
Так солнечно вошёл в мою жизнь знаменитый писатель и советский общественный деятель Анатолий Владимирович Софронов, у которого было немало друзей и немало врагов. Впрочем, ненависть неприятелей тоже говорит о многом.
А СОВЕСТЬ И РОДИНА СПРОСЯТ…
Как ни прискорбно, а пора
Сказать в плену самоукора:
Ушли такие мастера,
Каких доищемся не скоро…
Богата Россия природными талантами. Cколько у нас замечательных поэтов, о которых мы не вспоминаем даже в юбилейные даты! Я не говорю о классиках нашего столетия, я печалюсь не о великих, но – о достойных памяти: Дмитрии Кедрине, Алексее Недогонове, Василии Федорове, Сергее Орлове, Александре Яшине, Сергее Васильеве, Дмитрии Ковалеве… И вспыхивают в сердце их незабываемые строки. И не дают покоя.
Какая мощь, какое торжество –
Душа не спит, талант не увядает.
Пой, соловей, от счастья твоего
И людям кое-что перепадает.
Это вдохновенное четверостишие, как и начальное, принадлежат перу Сергея Васильевича Смирнова, чьи юбилеи за последние 20 лет не отмечались не только государством, но даже литературными изданиями. Хотя творчество лирика и публициста, автора поэм и оригинального сатирика, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького достойно отдельного разговора.
Человек невиданного оптимизма, он от рождения был свидетелем драматических событий двадцатого столетия: Первая мировая война, революция, гражданская война, голод, разруха, детство, лишенное материнства, и несчастный случай, сделавший бы любого другого озлобленным на всю жизнь, но только не Сергея Смирнова. Недаром его девизом стали собственные строки:
Да здравствует уменье быть веселым,
Когда тебя ничто не веселит.
Неудачи не могли сломить молодого подвижника. Не пройдя в школу живописи по конкурсу, он поступает работать оформителем в московский клуб железнодорожников, затем, захваченный энтузиазмом первых строителей метро, становится комсомольцем-добровольцем, несмотря на решительное «нет!» врачебной комиссии. Метрострой и рекомендовал начинающего сочинителя в только что созданный по инициативе М. Горького ВРЛУ – вечерний рабочий литературный университет, предтечу Литинститута. Его товарищами по учебе оказались Симонов и Боков, Недогонов и Матусовский, Высотская и Макаров… Константин Симонов станет редактором первой книги Сергея Смирнова «Друзьям» (1939).
А вскоре грозное дыхание Второй мировой опалило и наши просторы. Анкетист «завода оборонного значения» – ныне знаменитого Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, ставшего надолго и моим родным домом, – рвется всеми правдами и неправдами на фронт. Ему хочется «побыть в солдатской шкуре», чтобы заслужить право говорить от имени солдата. И – о чудо! – его принимает в свои ряды героическая 8-я гвардейская Панфиловская дивизия, с которой он протопал до начала 45-го победного года по фронтовым дорогам.
Всю науку русского солдата
Мне пришлось изведать целиком –
С чувством непреходящей гордости писал «гвардии рядовой». И эта гордость небезосновательна, ибо он, «негодный по всем статьям» к призыву, получил от Отечества, которое защищал, орден Красной Звезды.
Весну он встречает в выездной редакции газеты «Правда» в Чкаловской (ныне Оренбургской) области, затем следуют длительные командировки на восстановление подмосковной ГРЭС, на хлебозаготовки в Алтайском крае, к бумажникам Балахны, на освоение целинных земель… Это была хорошая школа познания жизни. Он старался найти достойные слова для воспевания труда солдаток, стариков да подростков, чьими силами держался наш тыл, не менее героический, нежели фронт. В своих воспоминаниях Сергей Смирнов, возвращаясь мыслью к горьким испытаниям, выпавшим на долю советского народа, писал о значении тех месяцев, охваченных жарким трудом: «Работа в выездных редакциях «Правды» новизной событий, масштабностью задач, горячим сердцебиением жизни переполняла, захлестывала душу, духовно врачевала от всякого рода минорных раздумий о своих утратах и огорчениях личного порядка. И в перерывах между очередными рейсами горячо, весело и творчески-добытливо работалось сразу над двумя рукописями собственных сочинений».
Поэт Сергей Смирнов в меру своего дарования служил своему социалистическому отечеству острым пером сатирика и публициста, лирическими стихами и душевными песнями, которые любили петь простые люди (многие из них стали народными: «Пароход покинул Химки», «Давай сегодня встретимся», «Назначай поскорее свидание», «Песня пожарного», «Вот ведь ты какая!»).
Он расширил границы поэтического языка, включив в него опасные для других творцов канцеляризмы («Отфыркивалась данная кобыла», «И я, как таковой, буквально сам не свой»), внося этим добрую иронию в лирические стихотворения. Он умел балансировать между дозволенным и невозможным, но шел в сторону поэзии. Он был мастером малой формы. Его талант позволял кратко сказать о главном, и строки эти мгновенно запоминались.
Кристалл
В не ту среду попал Кристалл,
Но растворяться в ней не стал.
Кристаллу не пристало
Терять черты кристалла.
Он до совершенства отработал новый жанр короткой басни.
Он сброшен с корабля на дно,
Но – будет поднят все равно.
Свои басни, эпиграммы, шутки, каламбуры Сергей Васильевич Смирнов любил называть «Сатиричинками».
Но и большие формы поэзии подчинялись ему. Читатели помнят его повести в стихах «На верхней Волге», «Владычица морская», поэтический сказ «Неизвестный – известен», поэмы «Имеем право», «Светлана», «На поединке двух миров»; «Скрипичный мастер», которые он посвящает своим героям: любимой девушке; капитану корабля «Шторм» В. Н. Орликовой; метростроевцам; отважной девчонке Светлане; врачам Боткинской больницы; скрипачу Е. Ф. Витачеку… Редкий поэт имел такой прямой контакт со своей аудиторией.
Но самым большим достижением Сергея Смирнова была поэма «Свидетельствую сам», удостоенная Государственной премии РСФСР имени Горького за 1969 г. Она и сегодня не утратила душевного накала, острой публицистичности и выверенности строк. Большая удача автора – лирический герой поэмы – человек чести и совести, не знающий иных путей. Он подставляет под невзгоды своего времени плечо с горячим желанием помочь. Именно такие отстояли в горе и в ненависти достоинство своего отечества, и помогли сохранить свободу всему миру. В этой поэме С. В. Смирнов коснулся впервые запретной и до сих пор темы: взвешенной характеристики жизнедеятельности И. В. Сталина. Вот как честно пишет об этом поэт:
Да! В таких, буквально, – людях-глыбах,
До вершин вознесшихся не вдруг,
Надо не замалчивать ошибок,
Но и не зачеркивать заслуг.
Этот образ в глубь души затолкан,
То гнетет, то жжет ее огнем…
Я и сам еще не знаю толком
Объективной истины о нем.
Рожденный за три года до октября 17 года, он почти на три года пережил насильственное разрушение СССР. В рамках жизни одного человека уложилась жизнедеятельность великого государства. Он не стеснялся декларировать свое отношение к непреходящим, с его точки зрения, социалистическим ценностям: «Самым главным мне представляется быть на стрежне советской действительности, не только присутствовать в роли очевидца, но и соучаствовать во всем по приказу разума и зову сердца, ратоборствовать с недругами, а их хоть отбавляй в современном мире…». И в этом поэт был тоже прав, ибо и сегодня делают всё, чтобы вычеркнуть его имя из книги русской поэзии 20-го столетия.
Каково было ему, метростроевцу, работнику оборонного завода, панфиловцу, песнопевцу Державы видеть, как она продается, растаскивается на части и уходит в небытие вместе с остатками его здоровья! Последние годы его жизни – трагедия целого столетия.
Сергей Смирнов соизмерял свой быт и свой поэтический дар только с двумя камертонами: голосом совести и голосом Родины. И такая мера личной ответственности достойна уважения.
Анна Гвоздева – Проскурина
Не откажусь от Родины моей…
К семидесятипятилетию Анатолия Парпары
Никогда не знаешь заранее, не можешь предугадать, кто из друзей и близких тебе по духу людей пойдет с тобой по жизненной дороге, а кто отстанет в пути или, что еще хуже, предаст на первом же повороте, и сокровища твоей души разлетятся вдребезги.
Главная черта в характере Анатолия Парпары, чье семидесятилетие литературная общественность отмечает в июле – это надежность. Надежность – черта, обычно не свойственная писателям. Чрезвычайные, сверхъестественные эгоцентристы, что заложено уже в самой природе творчества, они, как сундуки, собирают и складывают всё, что ни попадается на пути, и уже считай, что навсегда! Раз и навсегда уверовав в свое исключительное предназначение, эти небожители лениво, сыто, нехотя срывают предлагаемые жизнью дары, без благодарности и удивления, как должное, положенное им уже по статусу их пребывания на свете.
Тем радостнее светлеет душа, когда встречаешь такую личность, как Анатолий Парпара. И трудно, и легко писать о нем. Трудно, потому что он – ренессансный человек, вобравший в себя много граней художественной натуры. Успешный писатель-историк, на счету которого две широко известные исторические драмы в стихах, серьезное историческое исследование «Державные строители России»; проникновенный поэт-лирик; блестящий переводчик, общественный деятель, редактор, просветитель, эссеист и взыскательный летописец современного литературного прогресса, щедро откликающийся на все заметные явления литературы.
Да, трудно охватить всё перечисленное одним взглядом, так естественно и гармонично воплотившееся в одном человеке.
А легко потому, что, несмотря на всё им сделанное, достигнутое и свершенное, он остался добрым, солнечным, справедливым человеком, который постиг заповедь: чем больше отдаешь, тем больше получаешь.
Дитя войны, он хлебнул в оккупации и голод, и холод, и ужас бомбежек, и смрад картофельной ямы, едва прикрытой жердями, толем и лапником, в которой жила семья, когда каратели дотла сожгли родное материнское село на Смоленщине. Поэт чувствует свое бессилие перед тем, чтобы воссоздать жестокие картины тех военных лет: «разруху, мор, на трупах воронье…». В память намертво врезаются «широкие листья, мощный ствол, корневая умная система» лебеды-кормилицы, лебеды-спасительницы в голодное военное лихолетье.
На Запад уходил стрелковый полк.
А рядом с ним, таким суровым,
Бежал мальчишка белобровый,
Немного выше кирзовых сапог.
Он спрашивал солдат:
«Ты – папа мой?»,
Ручонкою хватал за голенище,
Но с каждым разом безнадежней, тише
Звучало горькое: «Ты – папа мой?»
… …
У каждого такой же сын иль брат…
С какой печалью их глаза глядели,
Какою нежностью ладони их гудели,
Но пальцы их впивались в автомат.
Поколение детей войны оказалось поразительно стойким, героическим, оно было сродни поколению победителей и вписало в историю страны немало ослепительных страниц: Космос и БАМ, целина и баллистические ракеты, ядерный щит страны и покорение Северного полюса.
Отслужив на флоте на Балтике четыре года, Парпара навсегда остался верен узам матросского товарищества, о котором вспоминает с сердечной благодарностью и восторгом:
Годы службы далеко вдали.
Я – другой.
И всё же поневоле,
Флотские увижу корабли,
Сердце вздрогнет в радости и боли.
… …
Вот идут они,
Такая стать,
Мужественны и русоволосы…
На себе пришлось мне испытать
Нежность и любовь людей к матросам.
После службы на флоте Парпара работает на родном московском заводе им. Хруничева, на котором до войны работал его отец, и одновременно учится на заочном отделении факультета журналистики МГУ. Начав печататься еще на флоте, а затем в заводской многотиражке, он постепенно овладевает нелегкой, но завораживающей его профессией журналиста и литературного редактора. И пишет, пишет стихи…
Ты поднимаешься над синими холмами,
И видишь даль на много-много лет.
И говоришь неспешными словами,
И благовест услышится в ответ.
И посреди внезапных откровений
Вдруг понимаешь в сокровенный миг,
Что ты – звено великих поколений
И потому обязан быть велик.
То было удивительное время. В 60–80-е годы на арену вышла когорта корневых русских писателей, прозаиков и поэтов, знаменитая «деревенская» проза. Писатели 60–70-х и читатели тех же лет – это явление социальное, интеллектуальное, нравственное и, главное, верующее в смысл и назначение литературы. Энергетический заряд, посланный писателем, попадал не в пустоту, как сейчас, а сталкивался с читательской энергетикой и высекал те искры, которые оставались в сердцах на всю жизнь.
Не откажусь от Родины моей,
Пускай твердят иные доброхоты,
Что за морем
И лучше, и теплей,
А здесь одни суровые невзгоды…
Не откажусь от Родины моей.
… …
Могилы предков здесь,
Здесь дом моих детей.
Вот постоянства моего причины.
А если где-то
Лучше и теплей,
Так в бегстве ли достоинство мужчины?
Могилы предков здесь,
Здесь дом моих детей.
Вот и пришла пора зрелости и мужания. Остались позади годы ученичества. Парпара всегда ставил перед собой очень высокие планки: он тянется к осмыслению ярчайших достижений советской русской литературы: к Леониду Леонову, Михаилу Пришвину, академику Борису Рыбакову, Владимиру Соколову, Расулу Гамзатову, Василию Белову, Михаилу Алексееву, Петру Проскурину. Общение с ними укрупняет его собственное видение мира:
Есть глас народа. За согласье он
Всех добрых сил, стремящихся к здоровью
Российской нации. Пусть колокольный звон,
Как в древности, с душою в унисон
Объединит всеобщею любовью.
В 80-е годы Парпара создает главное произведение своей жизни, над которым он работал 15 лет и за которое получил в 1989 году Государственную премию РСФСР им. Горького – поэтическую драматургическую историческую дилогию «Противоборство» и «Потрясение».
«Противоборство» – эпоха Ивана III, завершившего собирание русских земель под рукой Москвы, противостоянием на Угре блистательно осуществившего освобождение Московской Руси от татарского ига.
«Потрясение» – Смутное время, трагичнейший развальный период русской истории, напоминающий то, что произошло с Россией недавно, в 90-е годы прошлого столетия. Выход России из смуты – только в объединении всех здоровых сил нации, в осознании самобытности своего исторического пути, в подвиге народа, в подвиге Минина и Пожарского во имя национального спасения. Единство усилий спасло тогда государство, спасло Россию.
Мы были в рабстве долго. Но рабами
Мы не были. И жизни наших предков,
Их тяжкий труд, их долгая борьба
Тому залогом. Вековым залогом.
Терпели гнет, но не смирились с ним.
…
Припомним именитых, безымянных,
Какие жизни клали на алтарь
Победы нашей! Мы не те Иваны,
Не знающие сродников. Мы помним,
Откуда есть отчизна наша Русь.
Нам предстоит великая работа,
Чтоб земли
Под крыло Москвы собрать.
Своей драматической дилогией Парпара заявил о себе как зрелый мыслитель, создатель крупномасштабного полотна, четко прочерчивающий сквозь пелену веков историческую перспективу; как художник, замечательно владеющий литературной и разговорной речью 15–17 веков, тесно переплетенной с песенной народной интонацией. В свободном владении тайной белого стиха – безусловное влияние кумира Парпары, Алексея Константиновича Толстого.
Иоанн – великий полководец.
До сраженья предвидит он,
Что недруги замыслят,
И упредить удар умеет он.
У нас привыкли, чтобы полководец
Был на коне в сраженье впереди.
Владеть мечом – великое уменье.
Но сила, но спасенье государства
В объемном государственном уме.
Впервые эти чеканные строфы я услышала в 1981 году в авторском чтении в Доме творчества писателей – Малеевке, любимом благословенном цехе московской писательской братии. Здесь, на заснеженных аллеях Малеевки, мы и встретились с Анатолием Анатольевичем. Жили мы в одном корпусе «А». Был он молод, кудряв, длинноволос, брит, без теперешней шкиперской бородки, собран и немногословен. Из своей однокомнатной кельи выходил только в столовую…
И вдруг молчаливый отшельник засиял молодой белоснежной улыбкой и пригласил меня и двух учительниц литературы (было это в школьные каникулы), благоговейно отдыхавших в священном для них воздухе Малеевки, на одной лестничной площадке с Парпарой, на дружескую трапезу с чтением только что законченной драмы.
Драмы? Да еще и в стихах! Исторической драмы в двух частях об Иване III… Анатолию было необходимо на живых слушателях впервые проверить наработанное здесь за целый месяц. Такие застолья с открытым дружеским чтением и немедленным обсуждением наработанного были приняты тогда в Малеевке.
Помню, с открытыми ртами слушали мы драму и комментарии к ней самого автора: «Именно на Угре во время противостояния было 34 нескончаемые битвы. На протяжении 60 километров русские держали оборону, и только после того, как Угра замерзла, и исчезла естественная граница между татарской и русской ратями, русские организованно и четко отошли на заранее укрепленные позиции к городу Кременец, наглухо закрыв путь татарам на Москву».
Мы с учительницами тогда от души отдались стихии восторга перед развернутой величественной панорамой Московской Руси, перед чудом рождавшегося на наших глазах художественного произведения, которому суждена была долгая счастливая жизнь.
Иван III (драма «Противоборство»):
Лебедушкой любимая Москва
Плывет среди лесов непроходимых,
Мужает не по дням, а по часам,
И в облике всё четче проступают
Прекрасные и зрелые черты.
Мир казался тогда в Малеевке таким прочным и чистым, и жить хотелось. Были еще встречи в Союзе писателей России на Комсомольском, в ЦДЛ, в поездках по стране и у нас дома, куда не раз приходил Анатолий к Петру Лукичу по делам и просто в гости, на огонек. Они с Петром дружили, тянулись друг к другу и радовались каждой встрече. Анатолий уже стал известным поэтом, общественным деятелем, секретарем СП России, председателем Международного фонда Лермонтова, главным редактором полюбившейся широкому читателю «Исторической газеты», руководителем многочисленных поэтических семинаров, писательских бригад. А главное – художником со своим видением, со своим миром выстраданных страстей.
Набатом загремели обе драмы об историческом пути России в годы перестройки. В беседе с журналистом Николаем Горбачёвым А. А. Парпара дает определение понятию «Смутное время»: «Это глубоко потрясающее, великое «шатание» именно государства, ибо в это время всесторонним банкротом оказался не народ, а сама правящая власть; между тем как народ-то именно обнаружил такое богатство нравственных сил и такую прочность своих исторических и гражданских устоев, какие в нем и предположить-то было невозможно… Корни этого – в характере народа, свободолюбивом, не терпящем строгой узды. Он-то и противоречит измышлениям о так называемой «рабской» душе русского народа». Торжество великой Московской победы над Смутой дается Парпарой в великой радости и великой горечи, в предвидении будущих битв и противостояний.
…Рушились судьбы государства и рушились отдельные человеческие судьбы. Февраль 2002 года. Убитая, разгромленная трагическим уходом Петра, оглушенная и слепая еду в Орел на дни памяти Проскурина. Петр Проскурин был почетным гражданином города Орла, этой прославленной Мекки русской литературы. Перед входом в вагон в бешеной февральской метели сталкиваюсь с залепленной снегом квадратной фигурой Парпары в длинном черном пальто. Лицо его, обычно спокойное и ясное, искажено болью. Жесткий приступ радикулита согнул его перед самой поездкой, но он не мог отменить поездку, не мог изменить памяти старого товарища и друга, изменить своему профессиональному долгу. Как секретарь Правления СП Российской Федерации он представлял на «Днях памяти» писательский цех России, его руководство.
Опираясь друг на друга, мы медленно прошли вдоль длинного ряда великолепной выставки, составленной из фонда Проскурина, хранящегося в музее-заповеднике им. Тургенева, начало которому было положено еще в конце 60-х годов прошлого столетия, во время нашего проживания в Орле, и щедро пополненного в августе 1999 года актом дарения музею-заповеднику автографов четырех романов Проскурина и всех повестей и рассказов, написанных Проскуриным в благословенные орловские годы.
Не видя ничего от хлынувших ручьями слез (Петины родные рукописные тетрадки в клеточку, родной невообразимый клинообразный почерк – ставшие в одночасье холодными, безучастными музейными экспонатами!), я вдруг почувствовала твердое мужское рукопожатие Анатолия Анатольевича, осторожно сжавшего мой локоть. Оно мне запомнилось.
И на открытие первой Мемориальной доски, посвященной Проскурину, в Твери, на доме № 12 по Свободному переулку, где Петром было написано уже в постсоветский период сумасшедшее количество прозы (в том числе и прогремевший роман «Число зверя», по определению Юрия Бондарева, явивший прорыв в XXI век), Анатолий Парпара приехал вместе с Михаилом Алексеевым, Владимиром Карповым и Егором Исаевым. О, этот космический звездный десант в честь друга и соратника по оружию потряс дремотную холодноватую Тверь в последние дни яростного солнечного мая 2002 года!
Оказывается, ничто не исчезает так быстро на земле, как человеческая память… Заметает, заметает метель беспамятства наши следы на земле. И как быстро это происходит! И если бы не усилия таких подвижников, как Анатолий Парпара, – а их, кстати, крайне, до обидного мало! – цепочка времени давно распалась бы.
Иногда я думаю: зачем Парпаре это нужно? Отрываться от письменного стола, от своих героев и выстраданных образов, чтобы вспомнить кого-то, вытащить из забвения на страницы «Литературной газеты» забытых фронтовых поэтов в преддверие Дня Победы, чьи огненные строки обжигали и звали в бессмертие в годы Великой Отечественной. Зачем спешить на очередной семинар молодых поэтов в Ульяновске, чтобы зажечь на ульяновском небосклоне (всего лишь на ульяновском!) новое имя? Зачем не спать несколько ночей, чтобы выступить на общеславянском празднике трех братских народов в древнем Трубчевске, на Брянщине? А ведь именно Брянщина положила начало этому прекрасному, такому нужному сейчас и всегда (!) празднику в самые окаянные, самые мрачные годы перестройки, когда всё рушилось и расползалось по швам, казалось бесповоротно… Зачем, зачем?
«Мне нравится чувствовать себя необходимым людям», – говорит Анатолий Парпара. И этим сказано ВСЁ.
Принципиально и то, что поэзию предваряет оценка гражданской позиции Парпары, сделанная известным поэтом Владимиром Костровым: «Ты вёл себя так, как полагается русскому писателю». А цикл драматических произведений — небольшое эссе прозаика-историка Владислава Бахревского, названное «Явление редкое, а потому и замечательное».
Поэт-мудрец Владимир Костров обосновал свою высокую оценку не простой констатацией достойного уважения поведения Парпары в суровые переломные годы на фоне издевательства над народом, а обратился за поддержкой к истоку подтверждения доброты народа — русскому языку.
Словно следуя за Достоевским («слово в самом деле плоть бысть») и за русским философом Розановым, который делил слова на «рождённые» и на «знаемые», Владимир Костров в своём предисловии относит слово «добро» к числу родных русскому народу, вызывающих готовность на самоотречение ради него. Добротой по отношению к России, к народу её, пронизанной чувством родины, наполнена поэзия Анатолия Парпары. Не напрасно лирический герой его стихотворения «Старик и сад», оставшись в одиночестве из-за войн и невзгод, терпеливо высаживает деревья. И те «благодарно расцветают», привлекая людей, активизируя продолжение жизни.
Труд во имя «цветенья жизни» на родной земле в любых обстоятельствах — таков образный ответ поэта на вопрос «Зачем старик выхаживает сад?».
В гражданской поэзии, в драмах «Потрясение», «Противоборство», «Поражение» Анатолия Парпары читатель найдёт ответы на глубинные психологические вопросы, связанные с ответственностью за родную землю и народ.
По мнению автора, в русском человеке эта немалая ответственность заложена генетически, и посему вызывает в нём нравственное отторжение необъяснимая агрессивность некоторых изменников, «воров», как называли предателей в Смутное время.
Народ на гибель обрекая,
Сулят в бессмертие пути.
Ну, а народу не до рая —
В преддверье ада б не войти, —
так неслучайно писал поэт в 1988 году, предчувствуя тёмные «лихие девяностые», жестокие времена физических и нравственных страданий, отталкиваясь в своём творчестве от событий почти двухсотлетней давности.
В первой своей исторической драме «Противоборство» (время действия —1480 год), Парпара создал колоритный художественный образ Москвы раннего периода, зримо воспроизвёл в сознании читателя картину превращения удельного города в главенствующий, объединяющий русские земли. Главный герой Иван Великий, объединив земли русские вокруг Москвы, поверил в силу «сердцем терпеливого» русского «молодого народа», в его готовность встать против поработителей:
Уже два ста и полста лет над нами
Довлеет иго тяжкое, как снег
Для молодых побегов.
Но запомни:
Народ великоросский, как трава,
Что притаилась под глубоким снегом,
И силы собирает для рывка.
Автор живо и талантливо рассказывает читателю как мнение благородного и умного князя совпало с желанием народа полностью освободиться от двухсотлетней зависимости. Узнав о движении войск хана Ахмата и 70 подвластных ему орд на Москву, народ формирует ополчение, которое поможет в долгом бою княжеским дружинам достичь победы над врагом.
Поэтическая драма Парпары «Потрясение» — образное, художественное исследование одного из самых трагических периодов России и столицы её Москвы — Смутного времени.
В начале XVII века шедшая сверху и снизу Смута означала угрозу распада и гибели России как единого и независимого государства. Неправовое устройство содержало элементы беззакония и произвола. Поэт устами организатора народного сопротивления Кузьмы Минина высказал неприкрытую, обличительную правду о Смутном времени:
Великое смятенье на Руси…
Двенадцать лет нет доброго покоя.
От царствия Бориса посейчас
В правительстве — разлад,
В народе — смута,
И пустота великая по землям,
Да слёзы вдов,
Да горький детский плач…
Анатолий Парпара точно очерчивает рамки времени действия драмы — с 6 октября 1610 года по 27 октября 1612 года, что является одним из убедительных доказательств глубокого проникновения автора в исторические материалы.
Мы знаем, что поэт в течение двенадцати лет издавал самостоятельно уникальную «Историческую газету». Посмотрите, как естественно автор даёт впечатляющую характеристику князю и воеводе Дмитрию Пожарскому устами крестьянина, дед которого был ещё среди ратоборцев Ивана III. Старик советует Минину обратиться именно к проявившему себя мужественным воином князю, потому, что тот «в рати искусен зело» и «в измене не был замешан».
В драме немало сцен, раскрывающих талант Пожарского — неординарного военачальника, ставшего верным и мудрым другом Минина. Он умно и хитро убеждает купцов, приведённых Мининым, что для рати, которая пойдёт спасать Москву, нужны деньги. А чтобы поощрить наиболее щедрых купцов, воевода предлагает ввести их в «Совет всея Земли». Прозорливость мудрого стратега, дипломатические способности использует князь на благо родины и народа. Он добивается в своём войске единения в мыслях и в устремлениях, считая: «Наше ополченье должно быть едино, как струна». Подобно великому князю Ивану III, первому государю Руси, воевода не злопамятен и добросердечен.
Воспет в драме и подвиг народного спасителя Кузьмы Минина. Именно о таких героях писал русский философ Борис Вышеславцев: «Духовная личность есть свет сознания и мощи свободы». И неслучайно Кузьма Минин за руководство к действию берёт слова святого Сергия Радонежского, образ которого является ему во сне.
Немало красноречия и силы духа потребовалось старосте Минину, чтобы разбудить людей, вдохновляя их собственным примером щедрого пожертвования на рать для освобождения столицы и сохранения Отечества.
В драме выразительны и женские образы, при этом русских женщин, преданных помощниц мужьям-ратникам, поэт представляет, как бы следуя советам Николая Карамзина для будущих историков — изображать их лица «живыми красками любви к женскому полу и Отечеству».
Героиня драмы Наталья Гусакова сражается вместе с мужем в отряде ополченцев. Татьяна Минина помогает мужу собирать средства, вдохновляет собственным примером — снимает и отдаёт свои украшения. Больше того, понимая значимость жизни воеводы Пожарского, Татьяна смело спасает его от ножа предателя, но погибает сама.
Обращаясь к историческим личностям московских бояр, автор пытается осмыслить нравственную несостоятельность тех из них, кто не пожелал опереться на свой народ, пошёл на сговор с иноземцами. Смута проявила у них скрытые негативные качества человеческой души, позволившие забыть ради власти и корысти благочестие, долг перед матерью Родиной.
Русский народ является движущей силой сюжета и в третьей драме Парпары «Поражение» — о горечи неудач и радости побед в войне 1812 года. И здесь портрет народа многолик: герои обладают добрым юмором, терпением сверх меры, их главная забота — освободить родную землю от захватчиков. Автор не раз подчёркивает доброжелательность русских людей как естественную черту.
Доброта как одно из первичных свойств русского народа поддерживалась всегда и углублялась исканием абсолютного добра, о чём писал философ Николай Лосский в работе «Русский характер»:
«Доброта русского народа во всех слоях его выказывается, между прочим, в отсутствии злопамятности».
Здесь не лишне вспомнить и наполненные верой в светлое будущее и в особое предназначение нашей страны строчки из замечательного стихотворения Анатолия Парпары «Раздумье о Родине»:
И памятуя боли лихолетья,
Не помнишь ты, сердечная, о зле…
Россия, Русь, цвети тысячелетья
И радуй всех живущих на земле!
В конце сборника «На перетоке двух тысячелетий» на внешней стороне обложки помещён краткий очерк активной общественной деятельности и творческого пути Анатолия Парпары, из которого мы узнаём о завершении новой его книги прозы «Державные строители России», где отражена подвижническая деятельность Александра Невского, Ивана Калиты, игумена Русской земли Сергия Радонежского и многих других замечательных людей нашего Отечества.
Весь полувековой путь творческого осмысления необыкновенной жизни нашего Отечества поэтом и прозаиком Анатолием Парпарой пронизывала главная мысль — понять судьбу своего народа. И потому он обращается к духовным истокам: родному языку и родной истории.
Мне представляется, что как творец, «сеятель знанья на ниву народную» и общественный деятель (вспомним его любовь к русской классике по его статьям в печати, создание музея М.Ю. Лермонтова в Железноводске…) Анатолий Парпара достоин внимательного интереса умного читателя за том его избранного: «На перетоке двух тысячелетий».
Альбина ЖУЛЁВА,
литературовед
Анатолий ПАРПАРА
ВСЕ ОНИ ЛЮДИ ПОДВИГА
Беседовал Валерий Сдобняков
Валерий Сдобняков: Анатолий Анатольевич, День Победы, который в этом году мы отмечали в семидесятый раз, большой праздник для нашего народа, поэтому в продолжение ставших уже традиционными наших бесед о литературном процессе советского периода, я хотел бы поговорить о творчестве писателей-фронтовиков. Но эту тему, чрезвычайно обширную (здесь можно говорить и о прозе, и о мемуарах, и об исторических исследованиях, и о критике и литературоведении, посвящённых изучению и осмыслению литературы о Великой Отечественной войне), лучше несколько «сузить» и вспомнить (пока) только о творчестве поэтов-фронтовиков. Объясню почему. Наше поколение, которое осознанно входило в жизнь в шестидесятые годы прошлого века, без всякого преувеличения выросло на стихах поэтов-фронтовиков, на песнях, созданных по их стихам, на безмерном уважении и безмерной гордости за Победу, одержанную, в том числе и ими, над фашизмом. И вот сейчас, когда из современной жизни «вымываются» те замечательные песни и стихи, которые мы всё меньше и меньше слышим в безмерно разросшемся информационном поле, мне кажется, крайне необходимо напомнить читателям, всему обществу и о той поэзии, и о тех, кто её создавал. Вы многое для этого в последнее время сделали. Читатели с интересом следили за тем, как из номера в номер в «Литературной газете» вы представляли творчество поэтов-фронтовиков. Не скрою - именно эти публикации и побудили меня вновь попросить вас о беседе. Мне хочется понять, что лично для вас важно в их поэзии?
Анатолий Парпара: Для меня поэты-фронтовики - это выдающаяся часть русской интеллигенции, не взирая на то, к какой национальности они принадлежали. Тогда существовало государство Союз Советских Социалистических Республик, а это были люди, которые любили свою страну, и Россия для всех них многое значила. Даже в те тяжелейшие времена, когда некоторые, ныне довлеющие над литературой поэты спрашивали меня: «Зачем ты всё время пишешь - Россия, Россия. Мы же живём в Советском Союзе». Мне приходилось отвечать: «Потому что я не советский, а русский». Советский - это политическое название, а русский - жизненное название. Я родился русским и уйду из жизни в русскую землю. И для меня воевавшие поэты (неважно, был ли это якут Сафрон Данилов или дагестанец Кайсын Кулиев, который был ранен, а кабардинец Алим Кешоков спас ему жизнь, вытащив с поля боя) - все они люди подвига. Мало того, что они пережили тяжелейшую эпоху (пять-восемь лет от финской до Великой Отечественной войны - это был решающий момент жить как таковой России, или не жить, и эти люди отстояли наше будущее. Я ещё хочу сказать вот о чём. Мы часто ругаем Сталина за репрессии, но при этом совершенно забываем, что после смерти Ленина в политической жизни страны резко обострились два направления: первое - если бы Троцкий остался у власти, то были бы мы государством никаким. Нами бы полностью овладели люди, которые частично владеют сегодня, но они бы нас превратили в рабов.
В.С.: Я думаю, что они бы не справились с построением государства. Украина тому наглядное подтверждение. И дело тут не в национальности, а в подходе к наиважнейшему делу, в методике работы.
А.П.: Дело в идее. Эта идея заставила их за полтора тысячелетия из ничтожного и обижаемого народа стать крупным политическим и экономическим игроком на мировой арене. Я не хочу подробнее уходить в обсуждение этой темы, лишь замечу, что при Троцком мы очень долго не смогли бы восстановиться. А при Сталине, который понимал, что такое Россия, смогли в кратчайшие сроки это сделать. Потому что он хорошо знал русский язык, знал, что из себя представляет русский народ, и поэтому когда он пришёл к власти, то начал создавать экономику, начал создавать тяжёлую промышленность. И если бы с 1935 года, когда он основательно, действительно пришёл к власти, не совершил за последующие пять-шесть лет индустриализацию, то наша страна легко бы пала под напором немецких войск. И мы бы до сих пор пили баварское пиво, разбавленное нашими слезами. И ещё что судьбоносное сделал Сталин - это с 1924 года (когда он ещё только боролся за власть) начал восстанавливать школы. И напомню, что с 1935 года в школах стали преподавать историю. До этого такой предмет в их программах отсутствовал. И вот пришла новая, советская политика, которая не отрицала саму Россию, того, что в Российской империи жили и живут по сей день не обижаемыми многие народы. Это отличительная черта от сегодняшней политики на Украине. Триста лет Украина была в составе России, и мы украинцев не уничтожали. Это говорит в первую очередь о качестве народа.
Но вернёмся к поэзии. Победу одержало поколение девятнадцатилетних. Это зачастую были бывшие школьники. Например, Ваншенкин. Ну что ему было - семнадцать лет, когда ушёл на фронт. Давид Самойлов пошёл воевать восемнадцатилетним добровольцем. Это поколение, которому была внушена любовь к России, Советскому Союзу. Потому оно и отстаивало свою страну с яростью школьника. Тут можно перечислять очень многих - вот у меня список, в котором сто пятьдесят фамилий фронтовых поэтов. И если бы не было этой беззаветной любви к Родине, то не было бы и победы. Вот я и полюбил фронтовых поэтов за то, что они отстояли страну - смертью, ранениями, нравственностью.
В.С.: Это был главный посыл вашего предложения «Литературной газете»?
А.П.: Вы правы, двадцать фронтовых поэтов мне удалось помянуть в «Литературной газете». Но далее возникли трудности, и я переключился на журнал «Библиотека». Я разработал программу, и если в «Литературной газете» с трудом удавалось напечатать три-четыре стихотворения представляемого поэта, то в журнале было иначе. Но мы уткнулись в другую стену, которая называется «авторское право». Нужно было договариваться с родственниками даже тех, кто погиб на войне. Например, у Ольги Берггольц не осталось прямых родственников. Но нашлись какие-то по отдалённой линии, которые запрещают печатать её стихотворения, пока не заплатят им какие-то деньги. А откуда у меня деньги. Я ведь сам всё делаю совершенно бескорыстно. Или вот дочери Твардовского категорически запретили публикацию произведений своего отца.
В.С.: Непонятно, почему это вдруг происходит?
А.П.: Я спрашивал - неужели вы не хотите, чтобы люди читали стихи вашего отца? На это мне возразили: «Как мы не хотим?!». Да, вот так. Есть замечательный литературовед, который дружил с Твардовским, - Андрей Турков. Он составлял сборник фронтовых поэтов. Твардовского там нет. Я спросил его - почему? Ответ - мне не разрешили. Возможно, это идёт от непонимания того, что люди лишаются приобщения к поэзии их отца. Некая элитарность, вредящая общему делу. И я думаю, что сам Твардовский такое отношение к его стихам не одобрил бы. И в итоге, когда мы напечатали Твардовского, нам запретили публикацию, дочери подняли шум, и заведующую отделом в журнале (замечательную женщину) выгнали с работы.
В.С.: Все мы сейчас прекрасно понимаем, а уж дети таких больших поэтов и подавно должны это осознавать, что в сегодняшних условиях настоящую культуру, литературу мы должны нести в общество, внедрять в общественное сознание ради нашего же спасения.
А.П.: В журнале «Библиотека» в каждом номере предоставлялось три полосы, на которых печатались статья о представляемых поэтах и большие циклы их стихотворений. Библиотеки были счастливы. Всё это мы давали в преддверии наступавшего праздника Победы, всё это они могли использовать в своей работе с читателями. В малом зале Дома литераторов мы провели вечер поэтов, чьи стихи были опубликованы в журнале (буквально за две недели до уничтожения этой идеи). Школьники читали стихи Твардовского, Симонова, Недогонова и других поэтов. Это было великолепно. Но последнее, что успел ещё сделать журнал, это напечатать статью об этом прошедшем вечере. Затем всё, из-за произошедшего скандала, прекратилось. Конечно, скандал - это антикультурная акция. Мы за справедливость, законы по авторскому праву необходимы. Но в этих законах должна быть предусмотрена ситуация, которая не обернулась бы бедой, как это произошло в нашем случае.
В.С.: Давайте от грустной темы немного отойдём. Хочу вас спросить - ведь наверняка из той большой плеяды фронтовых поэтов у вас есть наиболее любимые, близкие вашему сердцу и своими произведениями, и по дружеским чувствам, оставшимся от личных встреч?
А.П.: Я родился в Москве на Филях, и потому, действительно, есть немало поэтов, с кем связана моя жизнь. Отец приехал с Украины и охранял завод № 23, известный сейчас как Космический центр имени Хруничева. Завод огромный, в то время он строил самолёты, на нём работало сто тысяч человек. Мой отец перешёл со временем в кузнечный цех, на заводе работала мать, когда я подрос, то устроился туда же сначала электромонтёром, потом корреспондентом в многотиражке. Мой младший брат, царство ему небесное, трудился на заводе сварщиком, и три года подряд признавался лучшим сварщиком страны, потому что сваривал между собой уникальные металлы, созданные специально для современной сложной авиационной техники. Тут должно быть особое чутьё, металлы надо чувствовать, чтобы их не прожечь. И такое чутьё у брата было. За свою работу он награждён орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почёта. Поэтому вся моя семья там. Но более того - когда я начал писать стихи, то первая моя подборка появилась в заводской многотиражке. А редактор её, которому я очень благодарен, дружил с Алексеем Недогоновым. После я служил на флоте, и он публиковал мои стихи под рубрикой «Бывший рабочий завода, ныне матрос Балтийского флота».
В.С.: Это название рубрики выдаёт душу несостоявшегося поэта.
А.П.: Так и есть… Ну и главное, что при заводе создал своё литературное объединение Алексей Недогонов. Человек, который был ранен в финскую войну, затем прошёл Великую Отечественную от рядового до капитана и в 1948 году получил Сталинскую премию первой степени за поэму «Флаг над сельсоветом». Но вот судьба - он успел узнать, что премия ему присуждена, но за три дня до получения её погиб под трамваем. Поэт дивный! Я его люблю, и, может быть, я один из современных поэтов, который помнит о нём, печатает о нём статьи, публикует его стихи. Более того - я создал музей Недогонова на Филях во Дворце культуры имени Горбунова, которым сейчас владеет бывший министр культуры РФ Швыдкой. Сейчас там, конечно же, нет ни музея, ни литературного объединения - всё уничтожено.
В.С.: И что там сейчас?
А.П.: Не знаю. Да это и не важно. Важно то, что уничтожаются основы русской культуры. А ведь я там сам играл в любительском театре - и неплохо, исполнял главные роли. Грустно оттого, что исчезает гигантский пласт советской культуры.
В.С.: Кого ещё из поэтов фронтового поколения вы могли бы особо отметить?
А.П.: Из тех ста пятидесяти, что упомянуты в составленном мною списке? Александра Межирова. 15 января 1970 года он мне писал (тогда я был молодым руководителем литературного объединения имени Недогонова, хотя ещё сам не издал ни одной книжки): «Все мы писали тогда грубым стихом, вдалеке от мастерства. Но Недогонов был природный мастер. Его стих необыкновенно изящный, изысканный, воплощённая пластика, звучал необыкновенно, являя пример врождённой поэтической культуры. И сам Алексей был похож на свои стихи - стройный, худощавый, с тонкими чертами лица. Глаза живые, добрые, слегка лукавые, таящие в себе опыт, «неутешительное знание», едва уловимую усталость. Ему была свойственна элегантность во всём - в умении носить небогатое платье и красиво держать в руке бокал с вином». Это письмо Межирова я ещё нигде не публиковал. Но я нашёл и копии писем Недогонова к Константину Симонову. Я пришёл к Симонову, он меня принял, и мы разговаривали часа три. Константин Михайлович нашёл свои письма к Недогонову. Я попросил расписаться его на письмах-копиях. Затем я устроил Недогоновский вечер. Дозвониться до Симонова не смог, но имя его в афишу включил. За два дня до этого вечера раздаётся звонок. «Анатолий, какое вы имели право, не согласовав со мной, поставить моё имя в афишу?». Я оторопел, но затем сообразил ответить: «Вы же Недогонова любили, дружили с ним». «А вы не подумали, могу я быть на этом вечере, или нет. Если я обещал поехать в командировку, то я же не могу подвести людей. А другие могут подумать, что Симонов зазнался, и поэтому не пришёл на вечер Недогонова». Это был мне замечательный урок. С той поры я обязательно узнаю, может ли тот или другой человек принять участие в литературном вечере, прежде чем поставить его имя в афишу.
Таким образом, круг поэтов-фронтовиков, с которыми я был лично знаком, постепенно расширялся. А когда я стал работать в журнале «Москва», то познакомился с очень многими поэтами.
В.С.: Пока не ушли далеко от вашего рассказа о Симонове. Эта переписка Константина Михайловича с Недогоновым опубликована ?
А.П.: Я публиковал её в журнале «Москва»… Но были два писателя, которые писали о Недогонове. Они предпочитали использовать воспоминания главного редактора нашей заводской газеты, брали у него материалы, а потом «скромно» говорили, что они их разыскали в архивах.
В.С.: Когда вы начали работать в редакции «Москвы», то судьба к вам привела многих известных поэтов.
А.П.: Практически всех, которые были в то время известны читателям. Журнал «Москва» по своей литературной политике был как бы посередине между «Новым миром» и «Нашим современником». В нём можно было печататься и левым, и консерваторам. Как раз при смене главных редакторов (у прежнего принимал пост Михаил Алексеев) в «Москве» был опубликован знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». За это в ЦК КПСС обоим и попало.
В.С.: Но ведь публикацию предваряло вступительное слово Константина Симонова.
А.П.: Так ведь и Симонову попало.
В.С.: Да-а… Его история с фактической ссылкой в Среднюю Азию известна.
А.П.: Но если кратко охарактеризовать, что такое в моём понимании фронтовая поэзия, то я зачитаю небольшой кусочек из своего предисловия к книге о фронтовой поэзии, над которой я сейчас работаю: «Но есть и такое незабываемое по таланту и честности явление, как фронтовая поэзия, как бы доказывая, что не все истины бесспорны, муза её всё-таки нашёптывала под грохот пушек и на полях сражений жемчужные строки, но записывались они в блокноты не в боях - между боями. Читаю и перечитываю стихи фронтовых поэтов, и сердце заходится в мучительной тревоге, оттого что трудно, горестно, невозможно читать эту суровую правду о войне, оттого что и я сам дитя невероятных лет, переживший двухлетнюю оккупацию на Смоленщине, расстрел карателей моей деревни в феврале 1942 года, оттого что за скупыми и резкими строками фронтовых поэтов стоит незабываемая четырёхлетняя битва за само существование нашего многострадального народа. Фронтовая поэзия - это мужество на войне, обострённое чувство справедливости и великая жажда жить во имя созидания». Кстати, на нашем заводе работал ещё один поэт, который погиб при освобождении Кенигсберга - Александр Тетерин. Когда я в архиве работал с подшивками нашей многотиражки, то нашёл с десяток его стихотворений. Его стихи широко не печатались. Я хочу в эту книгу их включить. Осталась только одна строка из стихов Недогонова: «Саша Тетерин, погибший у королевских ворот». Точно эту строчку не помню, но смысл её таков. И таких есть несколько человек, которые никому неизвестны. Но они были настоящими поэтами. Теперь позаботиться о них некому, потому что родни не осталось. Но я чувствую, что смогу сделать эту книгу так, как задумал, не ранее, чем лет через пять. Надеюсь, что найдутся люди, которые помогут её издать.
В.С.: Мне кажется, что ещё не было такого, что бы вы задумали и не довели до конца.
А.П.: Было. Я собрал книгу размышлений русских философов о Лермонтове, она была уже даже свёрстана, но так и не вышла.
В.С.: Жаль.
А.П.: Один известный литературовед, Станислав Лисневский, взял у меня почитать вёрстку этой книги - и не вернул. Лет восемь я у него просил мне её вернуть - безрезультатно. А там было много интересного. Занимаясь книгой, я разыскал те работы, которые совершенно не знакомы широкому читателю… Одно современное издательство, которое возглавляет мой ученик Георгий Зайцев, пыталось издать, но, судя по всему, не получилось. Это оказалось делом неприбыльным.
В.С.: Мы с вами уже говорили - в современных условиях на русской культуре невозможно зарабатывать. Ей можно только служить, и в подавляющем случае - бескорыстно, жертвенно… Но давайте вернёмся к фронтовым поэтам. Расскажите, кого вы хотите представить на страницах своей книги.
А.П.: Возвращусь к Алексею Недогонову. Он был великолепнейшим лириком. И он, может быть, один из редких поэтов, кто написал о Победе прямо в день её провозглашения. Вот его стихотворение «Бессонница»:
Торжественный финал похода,
отбой бессонниц и дорог.
У каждого -
четыре года
недосыпаний и тревог.
В своих глазах
в края чужие
несли, как отраженье, мы
огонь сожжённых сёл России,
пожаров красные дымы.
Полки бессонниц вместе с нами
вошли в Берлин
сквозь Сталинград.
Волжане с красными глазами
под Красным знаменем стоят.
А.П.: А вот Межиров. Году в 1974-м я собрал поэтов-фронтовиков на Недогоновский юбилей, и в том числе пригласил Межирова. Мы сидели вместе в президиуме, и в какой-то момент, выступая, я прочитал стихов десять Недогонова. Затем передал слово другому, а Межиров мне говорит: «Знаете, вы читали стихи, а я их про себя повторял. Оказывается, я их все знаю». Тогда я спросил: «Почему же вы не написали никаких воспоминаний о Недогонове?» «Знаете, - отвечает он мне, - как-то всё времени нет».
В.С.: Он был, наверно, не рад, что заговорил с вами о поэте?
А.П.: Не знаю, но я продолжил: «Вот об одном из поэтов недавно к его юбилею вы же опубликовали статью в «Литературной газете», а о своём друге, которого любили, нет. «Знаете, Алёши ведь нет, а эти всё время крутятся, звонят, уговаривают написать, да так, что отказать невозможно». Но вот в том же письме Межирова, о котором мы уже упоминали, есть очень интересный факт. Вот как он рассказывает о том, как встретился с Недогоновым: «Только что окончилась Великая Отечественная война. Стояли дни воодушевляющих надежд. В воздух взлетали ракеты. Гремели артиллерийские залпы. Но сквозь это мощное звучание поэт всё время слышал, как плакали матери. И ощущение победы было пронизано болью». Это очень важно и для нашего времени. И кстати, после этих его слов, я хочу прочитать небольшое стихотворение Межирова «Курская дуга»:
Мать о сыне, который на Курской дуге, в наступленье
Будет брошен в прорыв, под гранату и под пулемёт,
Долго молится, перед иконами став на колени, -
Мальчик выживет, жизнь проживёт и умрёт.
Но о том, что когда-нибудь всё-таки это случится,
Уповающей матери знать в этот час не дано,
И сурово глядят на неё из окладов спокойные лица,
И неведенье это бессмертью почти что равно.
Когда-то этот поэт написал: «До тридцати стихи писать почётно, и срам кромешный после тридцати». Но сам-то он писал их до восьмидесяти, и даже позже.
В.С.: Кто ещё из поэтов-фронтовиков «прошёл через вашу жизнь»?
А.П.: Владимир Семёнович Жуков. Он из города Иванова - русский, талантливый, с моей точки зрения, просто блистательный поэт, которому очень мало при жизни было воздано. Правда, в журнале «Москва» мне удалось пробить публикацию его поэмы, посвящённой гибели, самоубийству Фадеева. По понятным причинам она нигде не проходила, но мне с третьего раза удалось уговорить Алексеева, и мы её напечатали. Но тут тоже есть очень любопытный случай. Когда я учился в школе, то у нас была преподаватель по истории Ефросиния Петровна Мамонтова. А я с детства любил историю и очень благодарен этому педагогу. Это была малюсенькая женщина, балерина, ростом меньше нас, четвероклассников, но она с нами возилась - водила в воскресенья по Подмосковью, что-то показывала, рассказывала. Делалось это всё, понятно, совершенно бескорыстно, по любви к нам. И когда я уже начал писать стихи (это было в восьмом или девятом классе), она мне однажды говорит: «А я ведь знала одного поэта. Когда я в Иваново работала в госпитале, то среди раненых к нам привезли одного сержантика, поэта. Его звали Володя Жуков». И вот через годы в 1975 году судьба меня знакомит с ним. Я Жукову напомнил о Ефросинии Петровне, и он её сразу вспомнил: «Какая замечательная женщина!».
В.С.: Бывает же так!
А.П.: Я его спрашивал - Владимир Семёнович, почему вы так мало пишите о войне? Почему не рассказываете о пережитом тогда? На это он ответил: «О чём же там рассказывать. Война - это грязь. А разве можно о грязи говорить много и долго?». И я его понимаю. Потом он более подробно ответил, и я это записал для себя: «Трудно и больно вспоминать. На фронте были не только герои, но и предатели, не только соловьиные рассветы, но и раскуроченные взрывами тела друзей и однополчан. Перед моими глазами весь ужас войны возникает снова в неприглядном виде. Как можно о бойне человеческой часто писать».
В.С.: Это правильные, выстраданные слова.
А.П.: Вот его письмо, которое он прислал мне в редакцию: «Поэма островата, она возвращает нас к тем дням, которые все мы хотели бы позабыть, чуть ли не делаем вид, что вообще ничего не было. Но, к сожалению, всё это было. А если поэзия будет только в ладоши хлопать - она не выполнит своего назначения». Когда заходила речь о поэзии, то Владимир Семёнович, очень добрый человек, тут был бескомпромиссен.
В.С.: Сразу становился фронтовиком, возвращался памятью туда, где компромиссы невозможны - либо «да», либо «нет».
А.П.: Пять лет назад тихо отметили в родном городе девяностолетие своего почётного гражданина, лауреата Государственной премии России Владимира Семёновича Жукова. Увы! Но вот его стихотворение. Это реквием по фронтовым друзьям, а по сути обо всех павших за родную землю:
Оступились войны на друзьях моих...
Мёртвые спокойны за живых.
И ещё одно гениальное четверостишие его же, которое зачастую цитируют совершенно бездарно. Стихотворение называется «Пулемётчик». Он сам всю войну был пулемётчиком и потому знал, о чём писал.
С железных рукоятей пулемёта
он не снимал ладоней в дни войны…
Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.
В.С.: Страшное стихотворение какой-то своей жуткой простотой. Вот что есть человеческая жизнь на бойне под названием война… Но давайте теперь поговорим о поэзии Ольги Берггольц. Как-то невольно после этих строк хочется перейти к её стихам.
А.П.: Ну, с Ольгой Берггольц очень сложно. Я прекрасно понимаю её как женщину. До войны она писала обычные стихи, была женой гениального поэта Бориса Корнилова, хоть и прожили они вместе недолго. Полтора года ей пришлось сидеть в тюрьме. Она была беременна, и ребёнок её умер - случился выкидыш. Через некоторое время первая дочь (от Корнилова) и вторая (от нового мужа) умирают. Но началась война, жуткая блокада Ленинграда. В 1942 году, после смерти второго мужа, она выходит за третьего - известного литературоведа. Но и их дочь умирает. Каково женщине, которая пережила все эти трагедии, а ещё презрение государства, доносы недоброжелателей, потом вдруг услышать, что её называют «матерью блокадного Ленинграда»? Она правдивостью своих стихов внушала такую любовь к родному городу, такую любовь к Отечеству!
В.С.: Искренностью переживаний.
А.П.: Это была естественность переживаний. Более того, я сейчас процитирую письмо одной женщины к Берггольц: «Мы черпали из вашей поэзии о блокаде силы для новой жизни». Именно в эти трагические годы поэт и создаёт свои бессмертные произведения: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», работает над письмами слушателей, радиоочерками, поэтическими репортажами. Большая их часть затем войдёт в книгу «Говорит Ленинград». Однажды Ольга Берггольц сказала своему другу правду о себе: «Я шла всегда, иду и буду идти по самой кромке бытия, на его гибельном срезе, там, где жизнь встречается со смертью, и всегда навстречу жизни». Я прочитаю одно из её стихотворений:
Как много пережито в эти лета
любви и горя, счастья и утрат...
Свистя, обратно падал на планету
мешком обледеневшим стратостат.
А перебитое крыло косое
огромного, как слава, самолёта,
а лодка, павшая на дно морское,
краса орденоносного Балтфлота?
Но даже скорбь, смущаясь, отступала
и вечность нам приоткрывалась даже,
когда невнятно смерть повествовала -
как погибали наши экипажи.
Они держали руку на приборах,
хранящих стратосферы откровенья,
и успевали выключить моторы,
чтобы земные уберечь селенья.
Так велика любовь была и память,
в смертельную минуту не померкнув,
у них о нас, - что мы как будто сами,
как и они, становимся бессмертны.
В.С.: Тут бы продолжить стихами Друниной, Давида Самойлова.
А.П.: Я хочу вспомнить Дмитрия Кедрина. Надо отдать должное, что его из-за плохого зрения (он же почти ничего не видел) не брали на фронт. И тогда Кедрин пошёл добровольцем рыть заградительные рвы под Москвой. 2 сентября 1941 года он написал стихотворение «Глухота»:
Война бетховенским пером
Чудовищные ноты пишет.
Её октав железный гром
Мертвец в гробу - и тот услышит!
Но что за уши мне даны?
Оглохший в громе этих схваток,
Из сей симфонии войны
Я слышу только плач солдаток.
Он вслушивался в войну, как в какую-то ораторию, как в трагическую симфонию. А погиб в 1945 году. Его вытолкнули из вагона. Никто не знает, что произошло там на самом деле, но я думаю, дело вот в чём. Тогда было огромное количество жулья. Я ещё этот период в ранней молодости застал и хорошо его помню. Наверно, в тамбуре, где он стоял, кто-то начал приставать к девушке, и он заступился. Маленький, щупленький, очкарик - что с него взять. Вот наглец его взял и вышвырнул на ходу. Больше чем уверен, что именно так и произошло.
В.С.: Я очень люблю стихи Кедрина. Но давайте вспомним и стихи Сергея Васильевича Смирнова, о котором вы опубликовали воспоминания в журнале «Вертикаль. ХХ I век».
А.П.: Он был не только другом Недогонова, но и человеком поразительной культуры, юмора. Когда его спрашивали: «Как поживаете?», он отвечал: «Да диабетствую». У него было, да, видимо, и осталось, очень много врагов. Теперь они борются с памятью о Смирнове. Скорее всего, это произошло потому, что он был человеком остроумным, а это доброжелательно воспринимается далеко не всеми, и непримиримым к фальши, ко лжи, в отстаивании своих принципов. Мы подружились ещё и потому, что и он, и я, правда, в разное время, работали проходчиками метростроя. Потом уже Смирнов стал учиться в Литинституте вместе с Симоновым, Недогоновым. Но поразительно, что с таким чувством остроты у Сергея Васильевича есть стихи, которые стали песнями, но люди так и не знают, что автор слов - это Смирнов. Например: «Сорвала я цветок полевой…» или «Ты ласточка моя…». Лев Дуров, известный наш народный артист СССР, всегда защищал Сергея Смирнова. Он говорил: «Да, Сергей Васильевич Смирнов горбат, но это не помешало ему всеми правдами и неправдами добиться зачисления в действующую армию в первые же дни войны. О том, как он воевал, свидетельствуют боевые награды, которые украшали его, далеко не богатырскую, грудь. Но уж его стихи горбатыми называть было просто грешно. Его эпиграммы и четверостишия били всегда без промаха».
Я об этом поэте написал немало статей, которые заканчивал всегда словами о его поэме «Свидетельствую сам». В ней он во времена хрущёвского гонения на Сталина заступился за вождя. Он писал в поэме, что и сам не знает ныне настоящей правды о нём.
Самое обидное заключалось в том, что он, будучи советским человеком (хотя родился в 1913 году), ненадолго пережил гибель своего государства. Умер 1 февраля 1993 года в своей московской квартире.
В.С.: Большая у нас с вами, впрочем, как всегда, получается беседа. Но я всё-таки ещё хотел бы поговорить о Фатьянове - считаю, что уникальном явлении в нашей поэзии. Об этом поэте почему-то так мало пишут, вспоминают наши критики и литературоведы. Да и братья-поэты не балуют его память вниманием.
А.П.: Я хорошо знал его вдову, дочь. О Фатьянове когда-то замечательные слова написал его друг, тоже поэт и автор известных в народе песен Михаил Матусовский: «Надо обладать щедрым и певучим сердцем, чтобы подарить людям столько не стареющих со временем, не уходящих из нашего обихода замечательных песен. И за это мы будем долго помнить и чтить Алексея Фатьянова». Фатьянов прошёл сложный жизненный путь. Ведь он был репрессирован, какое-то время вначале войны сидел по доносу. Фатьянов был человеком, знающим себе цену - актёр, красавчик. Музыка жила внутри его, и очень часто он подсказывал мелодию своим соавторам по созданию песен, композиторам. Но он был и с гонором. Его не принимали в Союз писателей СССР. Честно признаюсь, и я в подборку к готовящейся книге с трудом нашёл несколько стихотворений.
В.С.: Если рассматривать тексты его песен как литературные произведения, то они оказываются очень среднего уровня?
А.П.: Видите ли, у поэзии всё-таки свой звук, своё состояние. Я сам пишу песни и знаю, что соединить вместе песенность и литературу случается крайне редко. Любопытно, что с Недогоновым они не были знакомы, но Фатьянов среди первых въехал на танке в один из освобождённых венгерских городков, который и Недоговов тоже освобождал, и написал, что нам легче было этот город взять, чем выговорить его название. Вот как любопытно судьба сводит поэтов. Кстати, за взятие этого города Недогонова наградили орденом Красной Звезды. Но любопытно, что песни Фатьянова и сейчас живут. В песне сливаются воедино музыка и слово. С Фатьяновым работали талантливейшие композиторы - Соловьёв-Седой, Борис Мокроусов, Самуил Кац, Георгий Жуковский, Александр Лепин. Они давали крылья его стихам.
Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал? Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил.
В эти дали смог ли наглядеться,
В дали дальние непройденных дорог?
И тебя, тревожащую с детства,
Я бы встретить, милая, не смог.
Родился поэт в Вязниках, а умер в Москве в 1959 году.
В.С.: Тема фронтовой поэзии бесконечна. Надеюсь, мы с вами ещё коснёмся её в наших дальнейших беседах.